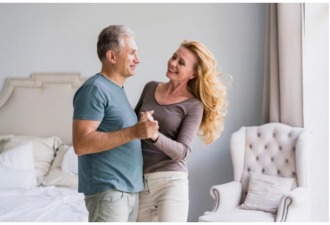Тамара Николаевна, довольно щурясь, разглядывала чистейшее, без единого развода окошко. Только у неё получалось всегда так натереть стекло, что, если смотреть наружу, то кажется, будто того нет вовсе. Ни у кого в их гocnuтaлe так не получалось, всегда звали Томку…
— Ну вот, девочки приедут, а у меня уже всё готово. Ир! Ириша, что там с пирогами? — крикнула, обернувшись, женщина, наклонилась, подняла с табуретки таз и понесла его в ванную. В комнате резко пахло уксусом, но Тамара привыкла, уже не замечала. А вот её дочка, сорокапятилетняя Ирочка, задержав дыхание, быстро распахнула дверь, помогая матери пройти по коридорчику, потом кинулась проветривать.

— Мама! Уксус в таких количествах только на «огурцезасольных» фабриках потребляют! — покачала она головой. — Ну или заводах. А ты у нас весь план им сбиваешь, на рекорд пошла!
Тамара Николаевна виновато пожала плечами. Запахи она чувствовала плохо еще с молодости, поэтому и духами перестала пользоваться давным–давно, а то родня жаловалась, что выливает на себя Томка полфлакона.
— Да я и не замечаю его вовсе… — разводила она руками, — не пахнет же совсем!
— Да как же! Ладно, таз поставь, я сама уберу, — примирительно поглаживала по спине мать Иринка. — А ты иди, посиди, ноги, небось, гудят!
— Некогда, некогда, детка. Девочки приедут, а меня ничего не готово. Так… Скатерть! Ирочка, где наша скатерть? — опять ринулась куда–то неугомонная Тамара Николаевна, стала хлопать дверцами шкафов, перебирая руками стопочки выглаженного белья.
— Что за шум? Тома, да угомонись ты! Егоза моя! Сядь. Дух переведи. Сейчас поеду за твоими, — мягко взял жену за плечи вошедший в комнату Трофим, потянул к стульям. Тома послушно села, уставилась на мужа, но видела будто и не его, губы шептали что–то, пальцы считали.
— Так, вилки, тарелки, ножи есть… Рюмки… Стопочки… Ира! Ира! Пироги же! — теперь уже обе женщины, обгоняя друг друга, неслись к кухне, а Трофим Павлович, вытирая лоб рукавом, смеялся им вслед.
— Сгорели?! Да, мама, сгорели? Прости меня, ну пожалуйста–пожалуйста–пожалуйста! — причитала Ира, подпрыгивая и стараясь разглядеть за материнской спиной выуженный из духовки противень.
Тамара Николаевна, довольно хмыкнув, развернулась, обхватила щеки дочки теплыми, с сухой, шершавой кожей руками, потом поцеловала Иру в лоб.
— Не, в самый раз, как Катюшка любит. Гляди, какие румяные, загляденье! — Тамара Николаевна сделала шаг в сторону, дав Иринке рассмотреть лежащие плотно друг к другу, толкаясь и вспучивая бока, пирожки.
Тома умела печь любые – хочешь с рыбой, хочешь с картошкой и грибочками, хочешь с повидлом… Но на этот праздник всегда пекли капустные. Так уж повелось.
— Тамара Николаевна! — в кухню заглянул шофёр. — Мы поедем тогда? Поезд уже скоро. Трофим Павлович интересуется, вы с нами?
— Что ты, Илюша, что ты! Дел ещё невпроворот. Осторожней там, ты за стариком–то моим приглядывай!
— Это кто тут старик?! — грозно рыкнул из прихожей Трофим, потом, кряхтя, опустился на низенький стульчик, который остался в отданной Небылициным квартире еще от прошлых жильцов и так понравился Иринке, что она расписала его масляными красками, покрыла лаком и уговорила родителей оставить своё творение, не выбрасывать. — Илюш, иди, я за тобой.
Илья, надев кепку, кивнул, выскочил на лестницу, легко сбежал по ступенькам вниз. Распахнув дверь подъезда, он на миг замер, оглушённый трескотнёй воробьёв, свистом и переливами прячущихся в листве скворцов, трепетом вывешенных на углу дома флага и знамени. Ветер гордо, медленно перебирал плотную ткань, позволяя солнечному свету золотистыми переливами скользить по полотнищам, спускаться по древку к стене и, метнувшись по штукатурке, точно огнем, стекать в землю.
Илюша прыгнул на водительское сидение Трофимовой «Волги», осторожно завёл мотор, прислушался: хорошо рычит, правильно, торжественно даже!
— От винта! — сел сзади Трофим и кивнул. — Давай, а то опоздаем, разбегутся наши бабульки, только ищи их потом!
— Ну договорено же, чтоб ждали на вокзале! — выруливая на оживленный, блестящий от проехавших поливалок проспект, буркнул парень.
— Оооо! Ты их не знаешь! Если на пять минут задержимся, они сами сюда придут, пешком, а по дороге организуют две больницы, пионерский отряд сколотят, заборы да ограды выкрасят… В общем, не стоит рисковать! Гони!
— Не велено. Тамара Николаевна сказала вас не слушать, ехать вдумчиво, — покачал головой Илья.
— А ты мне поговори ещё, ишь, ты, подкаблучник! Да если слушать во всем Тамару Николаевну, то…
Трофим не договорил, задумался, отвернувшись к окну. Илья его не дергал, не переспрашивал, понимал – сейчас нельзя, день такой, что все они, эти старики, замолкают на полуслове, что–то рассматривают, будто видят через стену, потом вздыхают… Такой уж день…
Вокзал встретил Трофима Павловича голосами певцов из репродукторов, смехом, веселыми частушками. Кто–то обнимался, стоя в уголке, кто–то наоборот, желая показать себя во всей красе, выходил в круг, отплясывал, выкидывал коленца.
— Ну вон они! Уже стоят! Опоздали мы с тобой, Илюша! — с досадой хлопнув дверцей, буркнул Трофим. — Теперь будут трещать, как сороки!
Три женщины, все примерно возраста Тамара Николаевны, поставив у ног чемоданчики, строго рассматривали пеструю толпу, прикладывали руки ко лбу козырьком и щурили глаза.
— Нина, Оля, Катя! Ну здравствуйте, дорогие! — Трофим широко развёл руки в стороны, желая обнять сразу весь свой маленький отряд, вспомнил, что не купили они с Илюшкой цветов, обернулся, показал парню кулак. Тот виновато понурился, потом, оглядевшись, увидел двух девчонок, стоящих чуть в сторонке и торгующих наломанной где–то сиренью. Илья подбежал к ним, сунул деньги, схватил всю охапку и кинулся обратно, к машине.
Нина, Ольга и Катерина сделали вид, что манёвров этих не заметили, тепло обнялись с Трофимом Павловичем, сунули ему в руки чемоданчики и, одёрнув жакетики, зашагали вперед.
— Не, ну ты погляди! Нимфы! Да не, грации! — довольно глядя на аккуратненькие фигурки своих подруг, кивнул Трофим, подкрутил привычным жестом хиленькие усы.
— А что Томочка? Здорова? — усевшись с краю, поинтересовалась Ольга. — Она попробовала настой, что я ей рекомендовала?
— Да тьфу на тебя и твой настой, Ольга! — обернувшись, пробурчал мужчина. — Крапива – она и в Африке крапива, вся кухня в ней, весь коридор в ней! Чего только вы там находите?!
— А вот когда у тебя последний волосок вылезет, — невозмутимо ответила Ольга, — тогда и ты начнёшь втирать, заваривать, мыть, примакивать и ещё Бог знает что делать, чтобы лысым не ходить! У Томочки какие волосы были, вы помните, девочки?
Нина и Катя кивнули.
… Тамара пришла к ним в кружок русских народных танцев с длиннющей, туго заплетённой косой. Девушка гордо клала её на плечо, крутила на палец кончик, видя восторг в глазах подруг. Во время выступлений иногда косу закручивали вокруг головы, шпилек уходило немерено, но зато на головке Тамары получалась будто корона.
Говорят, из–за этой вот косы их маленький, самодеятельный ансамбль выбрали для поездки по сёлам, выдали костюмы, сапожки, одинаковые туфельки на застёжках. А раньше танцевали, в чем кто был…
Нина, смотрящая в окошко машины, вдруг напряглась.
— Вспоминает… — сказал про себя Илюша. — Такой уж день…
…Нина, Катюша, Оленька и Тома катили в кузове грузовика по просёлочной дороге. Рядом с ними тряслись мешки и чемоданы с костюмами, кокошниками, вырезанными из картона деревцами и сделанными из папиросной бумаги веточками цветущей яблоньки. Накрытый брезентом кузов перегрелся, стало душно. Девчонки по очереди высовывали головы наружу, любуясь золотыми переливами моря пшеничных колосков, вдыхая аромат розовой гречихи, чувствуя на своих личиках легкие прикосновения ветерка.
Артистки смеялись, вспоминали частушки, прибаутки, вертелись и вздыхали, устав от долгого сидения…
Нина улыбнулась сначала, вспоминая, как шептались в дальнем уголке кузова с подругами о поцелуях, о том, как это будет у каждой из них…
А потом Нинино лицо напряглось, заострился носик, сжались губы. Женщина сглотнула, вспомнив страшное…
… Самолёт промчался прямо над ними. Девчонки стали махать ему, кричать что–то, а он дал по ним, ещё живым, очередь свинцового огня.
Водитель, дядя Егор, погиб сразу, машину повело на обочину. Она, попав колесами в канаву, завалилась набок, вспыхнул бензобак.
Девчонки стали выбираться из –под накрывшего их брезента, кричали, стонали, охали.
Нина и её подруги оказались в темном плену, пробраться к выходу было очень трудно, становилось жарко…
Всех вытащила Оля. Она, самая крепкая из них, рванулась вперед, хватая всех по очереди, выкидывала девчонок на горящую пшеницу, кашляла, разворачивалась и снова ныряла в густой дым.
Томка, испугавшись и натирая глаза, всё уворачивалась, не понимая, что Ольга её хочет спасти.
Девушке ничего не оставалось, как чуть наподдать подруге, та в изумлении замерла и её, как куклу, выволокли наружу. Тут кабина взорвалась, осыпав бегущих по полю девчонок снопами искр. Горели колосья, дымились платья на беглянках, стрекотал возвращающийся самолёт, что–то свистело вокруг, вспарывая воздух, ударясь в землю, прорывая тела…
Тамара загорелась. Её коса, длинная, расплетающаяся от быстрого бега вдруг занялась пламенем.
Ольга, Нина и Катя, схватив подружку, повалили её на землю.
Оля сняла с себя платье, оставшись в одной комбинации, стала сбивать пламя. Девочки топали по Томкиной косе туфлями, сыпали комья сухой земли, кроша её ногтями, кричали и плакали…
Когда добежали до леса, Тамара была почти без волос…
Такой её увидел в Трофим. Косынка скрывала свежие ожоги, девчонка жмурилась от боли, отворачивалась, стараясь не заплакать.
— Это кто ж такие? — тихо спросил тогда еще совсем молоденький Троша у командира.
— Артистки. Их накрыло в поле, ехали, говорят, в Ольховку, хотели концерт там забабахать… К нам по лесу дней пять шли, отощали немного. Надобно накормить и пристроить к делу.
— Да куда ж их? Если только по вечерам нам чечётку отстукивать. Я, Иван Иванович, видел, как это делают. Очень впечатляюще! — улыбнулся, сплюнув так, как делали это взрослые мужчины, Трофим.
— Отставить чечётку. Определи их пока при госпитале. Подлечатся, пользу приносить будут! — велел командир. — И не плюй ты так, ну что за манеры! — добавил он, дав Трошке легкий подзатыльник.
Сожжённые Томкины волосы, распухшие от укусов гнуса лица, руки с волдырями, стоптанные в кровь ноги оплакивали весь вечер, пока не раздали девчонкам каши.
— Ведь отрастут, да? — печально трогая забинтованную наскоро голову, спрашивала у подружек Тамара. — Это от мамы волосы, в её стать… Мама… Она же не знает, что мы тут, она же…
— Ничего. Я видела, тут почтальон ходит, мы обязательно напишем! — уверенно кивнула Оля.
«Не отрастут у Томы волосы, ну, по крайней мере, таких уже не будет, слишком пострадала кожа…» — со вздохом подумала она, но вслух стала расписывать план скорейшего выздоровления Тамары.
К октябрю на себе Тома стала замечать лишь небольшие участочки пушка. Остальная часть была стянута рубцами. А ведь ей нравился Трофим, она, может быть, даже влюбилась… И как же тогда?! Снимает он с неё косынку, а она такая…
Нина, Катя и Оля, пошушукавшись, удалились куда–то, а потом, велев Томе закрыть глаза, выстроились перед ней шеренгой.
— Ну, открывай! — крикнула Ольга. — Теперь можно!
Тамара смотрела на стоящих перед ней бритых девчонок. Они улыбались, и от этого маленькие девичьи ушки смешно приподнимались вверх, а лица делались чуть глуповатыми.
— Аля натюрель! — кивнула Нина. — Мода такая нынче, не слыхали?! — крикнула она обомлевшим ребятам, показала им язык. Те, опешив сначала, но послушав Трофима, захлопали, нарвали каких–то засохших цветов, преподнесли девчонкам. Те делали реверансы и смеялись. Улыбнулась и Томка, сказав, правда, что девчонки дурочки, но они ей и так нравятся…
К весне Томкина шевелюра стала погуще, и вот тогда Оля стала рыскать по округе, ползать по пригоркам и заглядывать в овраги, ища крапиву.
— Очень помогает! — уверяла она, заваривала свежие стебельки в котелке, остужала и щедро поливала подружкину голову.
С тех пор Трофим безошибочно отличал аромат заваренной крапивы от всех других трав, которую, когда было совсем худо с продовольствием, варила вместо чая Оля. А Томка запахов не чувствовала. Обожжённая слизистая оболочка носа уже утратила свои качества навсегда…
И теперь крапива у Небылициных на кухне, в огромной банке, сушёная, толчённая, резко–пахнущая… И такая родная, как сама Тамарочка…
… Нина моргнула, отвлеченная от своих мыслей звуком клаксона. Какой–то мальчишка перебегал улицу. Илья еле–еле успел притормозить.
— Ой, как на нашего Николашу похож! — встрепенулась, подслеповато щурясь, Ольга. Она стремительно теряла зрение, врачи сказали, что процесс необратим. Насмотреться бы сегодня на всех, чтобы потом вспоминать до… До конца своих дней…
— Да не! — махнула рукой Катя. — Наш Колька шустрее был, а этот какой–то откормленный. Колю, помните, разденешь, чтобы купать, так вся анатомия перед тобой, скелет и кожица… Даже желудок выпирал, когда откормится мальчишка. Медички прибегали смотреть, ну те, что со второго курса были.
— Да, а мы не пускали! — весело кивала Оля. — Потому что Коля – наш найдёныш был, нечего на него глазеть!
— Колька–то? Это тот, что тебя, Катя, без пальца оставил? — встрял Трофим. — Да, тот был жердинкой, а этот – гусеница какая–то! Кстати, жениться надумал ваш Николай.
— Да ну?! Наконец–то! — захлопали в ладоши женщины, а Илья скосил глаза на руки сидящей рядом Екатерины Андреевны. На правой ладони не хватало безымянного пальца.
Катерина поймала взгляд шофёра, нарочно медленно подвигала покалеченной рукой.
— Ничего, можно привыкнуть! — уверенно кивнула она. — Мы сначала тоже на раненых смотреть не могли. Неприученные же, учителя русского языка, пусть будущие, но всё же даже лягушку не обидевшие в своей жизни, а попали санитарками в полевой госпиталь. Вот там насмотрелись… Бывало, привезут бойца, он что–то просит, ну письмо написать, сообщить кому–то, а я не слышу, на его руку или ногу смотрю и даже дышать не могу… К этому привыкаешь, даже удивительно, как быстро! Ночью потом, правда, тяжело, кошмары всё снились, но и это со временем ушло. А палец – да, это Колькина «заслуга»! — усмехнулась Екатерина Андреевна. — Нашего пострелёнка.
— Расскажите! — попросил Илья. — Трофим Павлович никогда ничего не скажет, а интересно же!
— Ой, интересно ему… Ну ладно. История эта зимой была. Мы к какой–то деревне подходили, но с трудом дело шло. Тогда раненых вынесли много, наши мальчишки померзли уже, а надо вперед… Ну так вот, освободили уже деревеньку, вошли. Огляделись. Впереди разведка у нас, потом основной состав, потом мы с крестами на сумках, семеним, может, кого спасать надо. Ребята избы стали проверять, кое–где отстреливались. Было страшно.
— Почему? Взяли же уже деревню! — удивлённо пожал плечами Илюша.
— Ишь ты, смелый какой! А вот идёшь ты зимой по деревне, что видишь? Избы, дымок из трубы, снег белый–белый под ногами хрустит, катышки лошадиные на обочине – жизнь! А мы ничего этого не видели. Черно всё – обгорелые избы, черные брёвна на черном снегу, черные остовы печей, как пальцы чёртовы в небо указывают… Люди, что нам навстречу выходили, все в саже, не ведь где прятались всё это время, много раненых. Потом было и красное, много… Но в–основном чёрным–черно. Даже небо заволакивало тучами, а они серо–сизые, с темными прослойками… Собаки не лают, птицы не кричат, только трещат поленца, догорают, дымной струйкой вьются… Я отошла в сторонку, показалось, будто курица кудахчет. Ну какая зимой курица? А мне уже всё равно было, живот аж к позвоночнику прирос, так казалось. Зашла за избу, и тут прямо ко мне бросается мальчонка, пять лет тогда ему было, Кольке–то. Грязный, напуганный, что–то лепечет, я понять не могу, и показывает куда–то за обгоревшую стену. У меня братик такой же был, когда мы поехали с ансамблем выступать… Так и сжалось всё, как его представила…
— Кстати, что там Лёнька твой? — осведомился Трофим Павлович.
— Ну что у тебя за привычка перебивать, а, товарищ командир?! — рассердилась Екатерина Андреевна. — Жив–здоров Леонид, всё мосты какие–то проектирует, обещает, что скоро пройду я по ним, от края до края морей и океанов. Верится с трудом, но он клянётся. Так вот, Илюша, вы на дорогу–то смотрите, палец мой потом покажу поближе. Мальчишка за меня схватился, аж ноготками царапает, и тут из–за стены гранату кто–то кинул. Я Кольку повалила, сама на него. Он кричит, потому что ушки больно стало, а я подумала, не спасла… Так внутри всё окаменело, даже боли не чувствовала, только ужас. А когда наши подбежали, подняли нас, оказалось, что Коля только контужен слегка, ни царапинки, а я вот без пальца. Девчонки давай меня бинтовать, утешать, что, мол, на другой палец колечко надену, а я смеюсь, остановиться не могу, Колю к себе прижимаю и смеюсь… Трофим Павлович в меня полфляги спирта вылил, чтобы истерика прошла. А я за мальчонку так рада была, вот и хохотала…
Илья охнул, вздохнул. Вот бы и ему подвиг совершить…
Дальше ехали молча, каждый думал о своём.
— А помните, как купаться пошли на речку, и Танечку Титову щука укусила! — вдруг улыбнулась Ольга.
Женщины закивали, прыснули смехом. Трофим только покрутил пальцем у виска.
— Ну ведь женщины, вам по сколько лет–то?! А всё какую–то чепуху помните! — приструнил он своих бывших подопечных. С ними на вылазки ходил, с ними волочил раненых по земле, громыхая тяжелой винтовкой, с ними хоронил тех, кого у отряда отобрали, стрелял в небо, серое, тягучее, страшное, кричал, стонал, выл и метался в бреду – всё с ними. А они про щуку…
— А что же, Трофимушка, — погладила его по руке Екатерина. — И хорошее было, как без него?! Щука её, Таньку–то, за голые округлости цап! Тоже, небось, оголодала! Таня, как есть, в рубашонке, из реки припустила, не догнать. Вопит, руками размахивает, ребята подумали, прорвались враги, похватали оружие, давай выстраиваться, а щука устала, видимо, челюсти разжала и упала на землю… Танюшка вся красная стоит от стыда, и больно ей, и смешно. Солдаты отворачиваются, а мы бежим следом, одежду несём. Уху потом сварили. Славная была уха, а, Трофимушка? — подмигнула Катерина.
— Славная… Таньку только жалко… — отвернулся он. — Не уберегли…
Татьяна ушла под лёд, когда переползали речку. Тяжёлое оружие и намокшая одежда утянули её на дно…
Много ещё таких минут молчания было в машине, пока Илья катил по улицам города. Он как будто специально кружил, чтобы дать время женщинам как–то свыкнуться, осознать очередную дату Победы, пережить то, что было…
Трофим думал о Тамаре.
Со своей будущей женой Трофим Павлович долго был строг и особенно придирчив. Тамара то, Тамара сё… То это не так, то то не этак. Особенно выводили санинструктора Трофима Небылицина из себя её бантики.
Обмотав, как учили, бинт вокруг раны, крепко, аккуратно, в несколько слоёв, внахлёст, Тамара, закусив язычок, выуживала два кончика из бинта и завязывала их бантиком. Это, конечно, если было на то время. Но именно эти бантики доводили до трясучки придирчивого Трофима.
— Я вам ещё раз объясняю, так, так и так! — показывал он на Катькиной руке порядок бинтования. — Концы крепим вот таким образом. А вы мне что тут акробатику выделываете?!
Он насупливал брови, глубоко дышал, его ноздри разлетались в стороны и смешно дёргались.
Тамара, понурив голову, пожимала плечами. Бантики она на косичках себе и сестре завязывала…
— Как–то это жизнеутверждающе что ли… — шептала она, чуть не плача.
Ноздри приходили в ещё большее движение, Трофим хотел ещё что–то добавить, но только махал рукой и уходил. А Катя, Оля и Нина смеялись ему вслед.
Но однажды бантик на бинтах спас Томку от беды.
… В ту весну было тяжело, отрад давило и давило, загоняло в лес, окружало и планомерно уничтожало с воздуха и с земли.
В какой–то момент стало совсем трудно держаться, кончались боеприпасы, подкрепление никак не могло прорваться через окрестные болота. Ранее утро взорвалось пулеметной очередью, люди рассыпались по наспех вырытым окопам, потом стали уходить дальше в лес. Тамары хватились только к полудню, её нигде не было. Вроде бы только что тут ползла, кто–то видел там, раненые сообщали, что слышали её голос, а самой девушки и след простыл.
Говорили всякое, но Трофим разговоры рубил одним только взглядом.
— Жива. Найдём. Отставить реветь и нести околесицу! — покрикивал он на девчонок, а у самого желваки ходят, лицо бледное, грудь вздымается под гимнастёркой, как будто воздушный шар накачивают.
Остатки отряда должны были вывезти на самолёте, уже согласовали место и время, а Трофим всё тянул, рыскал по окрестностям, искал свою Тамару.
В четыре часа утра должен уже прилететь самолёт, а командира нет. И Оли с Катей тоже нет. Ниночку оставили с разболевшимся Колей.
— Ну как сквозь землю провалилась! — со злостью бил мох кулаком Трофим, скрежетал зубами. — Так, идите к лагерю, — наконец велел он девчонкам. — А я остаюсь. Нельзя бросить её.
— Ну и мы тогда с тобой, — кивнули две бритые головки.
— Не обсуждаются приказы, что не понятно тут?! — рявкнул мужчина. Да, тогда он уже был мужчиной. Не пареньком с игривыми бровками, не наивным мальчишкой, который из винтовки–то стрелял всего пару раз, да и то в дерево. Нет, он смотрел через прицел на людей, он делал то, что и погибший до него командир. Он зачерствел, заматерел, оброс бронёй. Ни слезинки не ронял, когда хоронил ребят, стискивал зубы, но молчал. А вот Томка его размягчила, заставила снять броню, почувствовать, как сердце мечется, как его стук отдаётся в висках… Сейчас бы сжать её лицо, любимое, серое, худое, впиться губами в губы и напоить Тамарку жизнью, любовью… Но где она? Прячется зачем?!
Трофим не заметил, как стал говорить вслух, но тут Оля легонько тронула его за рукав, показала вперед, заставила молчать.
Там, на полянке из едва проклюнувшейся мать–и–мачехи, лежал солдат. Он не двигался, не стонал. Его глаза были открыты и смотрели в небо. А на ноге, там, где была рана, намотан бинт. Неловко намотан, как будто криворукий старикан мотал, а на самом верху – бантик…
Трофим сжал Ольгино плечо, та даже вскрикнула.
— Здесь она! Здесь! Знает, что надо тихо сидеть, вот и подала знак! Тома, Томочка моя! — шептал командир, сглатывал, вытирал ставшее вдруг мокрым лицо. — Роса это! Роса! Что смотрите, ищите её! — одернул он своих спутниц. Те многозначительно переглянулись. Почему–то они знали абсолютно точно, что Томка жива…
Её нашли метрах в ста от того солдата. Она лежала, свернувшись комочком, и тихо–тихо, почти неслышно, звала своих девчонок…
Тогда Тамара серьезно простудилась. Врачи категорически утверждали, что детей у них с Трофимом быть уже не может. А через четыре года после войны родилась Иришка.
— А я тебе сразу сказала, Тома, враньё это всё, будут дети! — спокойно выслушав новость, пожала плечами Нина.
Трофим сплюнул, вышел тогда из кухни.
— Знала она! Ишь ты! Чего ж раньше–то молчала?! — возмущался он.
— Да я говорила, вы слушать не хотели… — оправдывалась Нина, как девчонка, комкая край кофточки, складывая его гармошкой…
… У Нины шрам на щеке. Илья давно рассматривал её украдкой. Шрам жил своей жизнью, отдельно от всей остальной мимики. Нина уже не обращала на него внимания. Ну да, некрасиво, портит общий вид, но жива–здорова же! Так чего уж сокрушаться?!
Нина попала в плен в сорок третьем. Говорить об этом не любила, всегда бледнела, отворачивалась, когда кто–то просил рассказать.
— Не стану говорить… Тяжело это. Ну это как затравить зверя… — пыталась она что–то сказать, но Ольга или Катя закрывали её собой, отгоняя энтузиастов.
— Ничего, Нинок, ты наша самая–самая любимая, слышишь?! — шептал они. — Не дадим в обиду!..
И она верила, прижималась к подругам, тихо постанывала, иногда плакала…
— Девочки, вы у меня единственные на свете, — скривившись, говорила она. Подруги кивали.
В том плену погиб Нинин жених. О нём никому не рассказывали. Нина теперь ездила к его родственникам, навещала, а замуж ни за кого так и не вышла.
— Не могу я, девочки. Он перед глазами встаёт, и всё… — качала она головой…
… К Тамаре Николаевне приехали в обед. Уже накрыт был стол, Трофим разлил по рюмкам, как он говорил, «поминальное», встали, Тамара сказала что–то…
Первые речи всегда говорил она, так уж повелось. Но это когда в гостях были ее подруги. Если приезжали фронтовые друзья мужа, то она помалкивала. У каждого свои истории, своё прошлое…
Ирина помогала на кухне. Маминых подруг она любила, знала их с детства, смотрела на этих женщин с восхищением. И молчала. Она ребенок послевоенный, ей теперь только слушать, сжимая от страха кулаки, а потом, гордо подняв взгляд, улыбаться отцу. Они все – папа, мама, тети – все герои.
Вечером Ирина уехала, а гостьи устроились на ночлег, разместившись по комнатам.
Рано утром они снова все сядут в машину, и Илья повезёт их за город, в одно место, куда возит каждый год… Такой это день — День Победы…
Опушка леса встретила их росистой прохладой, шелестом чьих–то крыльев над головой, запахом прелой прошлогодней листвы. Илья довёл женщин до нужного места, осторожно поставил на землю корзину с цветами, отошёл.
Нина, Оля, Катя, Тома, взявшись за руки, сделали пару шагов к лесу.
— Заросло всё как! — покачала головой Нина. — Ничего не узнать…
— Да ну что ты! Вот брёвнышко наше, сядем… — погладила по плечу подругу Тамара.
Они долго молча сидели, смотрели сквозь полупрозрачные, еще только–только распускавшиеся веточки деревьев, потом тихонько запели.
Илья не видел, а они видели… К ним из леса выходили их подруги, молодые девчонки в гимнастёрках и пилотках, в сапогах и с винтовками за плечами.
Таня, утонувшая той зимой, Поленька, Аня, Женечка, Кира, Лена, Юлька, Зина, Фаина… Их было столько, что Оля вдруг начинала плакать, как будто виня себя за уход каждой…
— Ой, а ты, Ниночка, постарела совсем! — говорила язвительная Юлька, вертела в руках сорванную травинку, усмехалась.
— Да, малыш. Вот такая я теперь, — показывая на располневшие ноги, пожимала плечами женщина.
— Тома! А что за траурная кофта на тебе?! — журила Кира подругу. — Я, что, зря учила тебя шить?!
Кирочка, однажды обнаружив в заброшенной избе швейную машинку, принялась учить своих товарок портняжному делу и швейному мастерству. В ход шла вся ткань, что находили в округе…
— Ой, да это я не подумала… Извини, Кира! В следующий раз надену платье! — улыбалась Тамара.
— Катька! Ну присобачила же ты обручальное кольцо! Ну нашла место! — кивала Аня на грудь Екатерины, где на веревочке было подвешено колечко.
— А я говорила, найду место! — смеялась Катя. Аня тогда долго лечила её руку, потом отправила в госпиталь, чтобы как следует всё зажило… Анечка… Её не стало, пока Катюша лечилась…
Долго ещё разговаривали женщины, кивали, улыбались, плакали. Потом Нина встала, отошла в сторону. К ней пришёл увидеться Пашка, её жених…
— Может быть, он сегодня признается мне в любви… — думала женщина. — Но я такая старая, а он молодой…
Но Паша опять не решался сказать то, что не успел при жизни. Он мялся, говорил о погоде, вздыхал… Нина что–то рассказывала. Он кивал, протягивал к ней руки, но обнять не мог…
Илья откашлялся, напоминая, что пора уезжать. У гостей скоро поезд…
— Ну что? До следующего года? — поднимаясь в земли и забирая свои шинели, говорили девочки.
— Да, мы обязательно придём, — кивали женщины, клали к прятавшемуся в зарослях малинника обелиску цветы.
Девочки очень любили малину, лакомились ею тогда, в далёком сорок втором, когда застряли в лесу. Пусть и сейчас им сладко спится…
— Если бы не война, то вы были бы старше… — оборачивалась последний раз Тома.
— А вы помоложе. На сердце слишком много ран… — вздыхали девочки и растворялись в тумане…
… Тамара и Трофим всегда провожали Нину, Олю и Катю до вокзала, долго еще после отправки состава топтались на перроне, сказать всё что–то хотели, но не могли. Такой это день – День победы…
Зюзинские истории